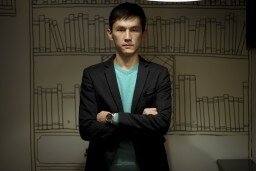Шамиль Ибрагимов: «Я всегда делал чуть больше, чем от меня ожидали»

Шамиль Ибрагимов относится к узкой прослойке молодых руководителей: в свои 34 года он управляет фондом «Сорос-Кыргызстан». Но самое интересное, пожалуй, то, что он, как часто говорят на западе и все чаще говорят у нас, сделал себя сам. Помимо этого, он человек непубличный, пропагандирует здоровый образ жизни и трезвый взгляд на мир, подкрепленный философским опытом и осознанием, что нет успехов без кропотливой работы над собой. Мы в «Бишкекчанке» надеемся, что на это интервью обратят внимание молодые да ранние кыргызстанцы, и желаем Шамилю дальнейших побед.
Интервью из архива журнала "Бишкекчанка" (№48, октябрь 2015)
– Меня удивил такой факт в вашей биографии, что в 28 лет вы уже возглавили компанию. Как вы к этому пришли?
– Ничего грандиозного я не делал, это просто было последовательное движение вперед, я не разменивался по мелочам и не соблазнялся на сиюминутные выгоды. Наблюдая за молодежью, часто вижу, что людям нужно все и сразу. Строить свою карьеру шаг за шагом им не хочется, вероятно, они насмотрелись фильмов о Стиве Джобсе и считают, что образование необязательно, можно бросить университет и в гараже сделать миллиардную компанию. А заканчивается это обычно торговлей в контейнере, без образования и без перспектив на интересную работу. При этом, конечно же, в условиях Кыргызстана высшее образование не гарантирует трудоустройство. Но если ты ясно представляешь, куда идешь, какими знаниями должен обладать, то даже в нашей системе ты найдешь ценные знания.
Я окончил вуз по специальности «Международные отношения» и всегда знал, что буду работать в международных организациях. Мне это интересно. Бизнесом занимался параллельно, и свое дело было. После университета я работал в проекте ЮСАИД по развитию предприятий. Начинал в корпорации «Прагма» с самых низов – был оператором базы данных. Показал себя на этом месте, рос, стал консультантом по торговле. У меня были клиенты, и среди них была американская компания, которая пригласила к себе руководителем отдела корпоративных закупок. Потом там же мне предложили позицию директора, после этого я подал на конкурс в «Фонд Евразия», а через 3,5 года – был конкурс на позицию директора в фонде «Сорос-Кыргызстан». Теперь я здесь. Так что ничего такого!
– А почему вы выбрали именно международные организации?
– В школе я нарисовал в голове определенную картинку, где бы я хотел оказаться, допустим, к 30 годам: свое положение в обществе, род деятельности. Так я понял, что не хочу ограничиваться одной страной или одним бизнесом. Меня привлекает работа и принятие решений на международном уровне. В университете это еще укрепилось, и я четко шел к поставленной цели. И еще, на любой работе я всегда делал чуть больше, чем от меня ожидали. Это, пожалуй, самое главное. И это относится к любой ситуации. Вот, представим, вы хотите сделать приятное кому-то, приходите домой и готовите ужин. А после себя не убираете, и ваша, к примеру, жена, вынуждена так долго убирать за вами, что весь ваш хороший замысел сходит на нет. Ну, так доведите дела до конца, приберите за собой, оставьте кухню в идеальном состоянии. И в любом деле так же: делайте свою работу так, чтобы никому не пришлось за вами ни убирать, ни что-то подкручивать. Это называется создавать конечный продукт, когда ваш продукт ценится и его не нужно дорабатывать. Это определенная философия, в принципе, достаточно простая и эффективная. Большинство это понимает, «лайкает» такие вещи в «Фейсбуке» и «ВКонтакте», но, к сожалению, не делает.
– У вас был период, когда вы работали в строительной компании. И тут вы решаете уйти в «Фонд Евразия» на оклад почти в два раза меньше предыдущего. Что вас на это подвигло?
– Опять-таки это была последовательность действий. Я хотел узнать, как работает большой бизнес. В строительной компании у нас все шло хорошо, были большие обороты. Но я понял, что это не мое, работа не приносила удовольствия. Потом открыл бар и понял, что и это не мое. А когда увидел объявление, что «Фонд Евразия» ищет человека, который поможет им выстроить организационную систему, сразу подался, так как это позволило бы мне стать ближе к мечте. Ради чего-то более перспективного пожертвовал денежным комфортом.

– Чем реальность работы в международных организациях отличается от представлений кандидатов, кто там никогда ранее не работал?
– Как говорится, мы верим в отлаженный механизм работы организации, пока в нее не попадем, неважно, ООН это, Дом правительства или «Фонд Сороса». Впечатление со стороны всегда отличается от реальности. В любой сфере есть свои оргвопросы, своя бюрократия. Это, наверное, основное отличие. Кто-то, может, думает, что нам регулярно дают мешок денег и мы их раздаем, в промежутках курсируя между круглыми столами и фуршетами. Нет. Это рутинная работа. Но мы в нашей организации пытаемся оставить простор для творчества. Я как руководитель максимально открыт к инициативам сотрудников. Мы чуть гибче других международных организаций в Кыргызстане в силу своей природы. Мы не агентство по развитию, мы частный фонд, созданный с целью построения открытого общества. Мы не строим инфраструктуру, как ПРООН или Азиатский банк развития, у нас иная цель. Мы защищаем права человека, строим пространство для гражданского участия, диалога на уровне сел, городов, создаем максимальные возможности для людей, для самореализации через доступ к образовательным ресурсам. Кыргызстан уже отличается свободомыслием от всех наших соседей. Я считаю, что наше основное достижение как страны в том, что мы смогли построить диалог между властью и обществом. Да, возможно, не настолько эффективный и конструктивный, как хотелось бы, но тем не менее он есть, и я верю в то, что он будет развиваться.
– В фонде «Сорос-Кыргызстан» за двадцать лет сменился ряд руководителей, многие из которых известные личности. А чем вы больше всего гордитесь за три года работы в фонде?
– Я горжусь всей нашей работой, думаю, наша команда сделала большой вклад в развитие паллиативной помощи. Особенно горд за то, что наша команда в сотрудничестве с партнерами смогла добиться принятия нового патентного закона в Кыргызстане. Что это значит для обычных людей? Человек, больной гепатитом С, вынужден проходить лечение стоимостью от 15 до 20 тысяч долларов, и, к сожалению, нет гарантии на полное выздоровление. В США в 2013 году был разработан новый препарат по лечению гепатита С, но его стоимость неподъемная для наших граждан, около 84 тысяч долларов. В это же время этот же препарат в Индии стоит в разы дешевле. Завозить в Кыргызстан этот препарат мы не могли – не позволяло наше патентное законодательство, но мы добились изменения закона, и теперь препарат-генерик от гепатита С будет доступен в Кыргызстане примерно за 2 тысячи долларов. По сути, наша работа дала шанс на жизнь тысячам людей, сделав лечение гепатита С в десять раз дешевле.
Я очень горд за нашу программу по инклюзивному образованию, в рамках которой мы поддерживаем и развиваем модели обучения для детей с особыми нуждами. При нашей поддержке были созданы классы для детей с аутизмом, поддержана разработка моделей образования для детей с физической ограниченностью. Это на самом деле меняет жизнь людей.
У нас очень много различных направлений, есть и совершенно новые для нас. Два года назад мы запустили «Урбанистику». В Кыргызстане официально 35% населения живет в городах. Но если допустить, что в Бишкеке вместо 900 тысяч, прописанных на самом деле, проживает 1,2 миллиона, то это уже 20% всего населения. И подобная ситуация в Оше. Если взять всех городских жителей, то это уже близко к 50%. Получается, что в то время как почти половина страны живет в городах, у людей нет возможности взаимодействовать и как-то влиять на свой город. Бишкекчане не могут выбирать мэра и депутатов горкенеша. Бывает, что выдвиженцы от партий и те, кто оказывается в креслах, это разные люди. За 24 года независимости слово «демократия» девальвировалось до нуля. А почему? Потому что люди не верят, что вообще на что-то могут повлиять. Конечно, две революции показали, что народ в силе изменить ход событий, но это не конструктивно. Мы сейчас поддерживаем городские инициативы в отдельных дворах и районах. Из недавнего: в районе кинотеатра «Чатыр-Куль» был старый заброшенный двор с советскими фигурами слоников. Двадцать лет был заброшен, зарос. К нам обратились с инициативой реанимации этого парка, и мы поддержали эту идею, но мы не оплачивали работу, а в большей степени поддержали мобилизацию людей. Местные люди сами его расчистили, все покрасили. Даже из соседних дворов стали приходить кто с лопатой, кто с цементом. И теперь у них есть чувство, что они реально могут что-то изменить. Что этот двор их. А если он им принадлежит, то они уже не будут там гадить. К сожалению, в нашей культуре понятие «общее» приравнено к понятию «ничье», соответственно и отношение к общественному пространству такое. Но мы хотим изменить это отношение. Нужно сделать первый шаг и предложить конкретное дело для вовлечения людей, и многие с удовольствием откликнутся.

– Какие особенности урбанистики в Кыргызстане?
– Один из естественных вызовов процесса урбанизации во всем мире — миграция из села в город. И, к сожалению, у нас нет механизмов адаптации сельских жителей в городскую среду. Это разный образ жизни и разная ментальность. 20-30 лет назад у нас была культура городского жителя. Наши дедушки и бабушки, отцы и матери переезжали в город, адаптировались и через два-три года уже были городскими. А сейчас человек переезжает, и как он был пять лет назад сельским, так он и остается, живя в городе, то есть вместо того, чтобы меняться под среду, он меняет ее под себя. Я не говорю о том, что городская ментальность – это хорошо, а сельская – плохо. Абсолютно нет. Они оптимальные для разных условий. В селе строгие моральные рамки: человек не будет гадить, потому что все друг друга знают и это его сдерживает. В городе же он позволяет себе больше, потому что прежних моральных рамок нет, а других моральных рамок у него не появилось. Человек попадает в новую среду, и у него здесь нет культурных, ценностных ориентиров, поэтому он остается в той ментальности, с которой приехал.
– Что же делать в таком случае?
– Мы стараемся формировать эти моральные ориентиры через культурные мероприятия. Наша задача – заставить людей задуматься, а что такое быть горожанином? А что есть город для меня и какова моя роль в городе? Вот, например, сейчас идет проект «Photodrift как практика исследования города». Через фотографию можно заставить задуматься, поговорить о городе. Мы поддерживаем различные андеграундные театральные постановки – «705», «МестоД», куда тоже можно прийти, посмотреть, поразмышлять. Наша задача – дать людям возможность общаться. И когда человек задумывается, возможно, он сам захочет что-то изменить. Для нас очень важно, чтобы этот гражданский активизм остался активизмом, а не работой, когда надо отрабатывать грант. Мы стараемся поддержать инициативу тех же самых театров, а не покрывать зарплаты, всегда очень высок риск формирования иждивенческого подхода. Поэтому каждую идею, инициативу мы внимательно изучаем и обсуждаем.
– Допустим, есть молодой человек с идеями, но без опыта. Что вы посоветуете ему или ей, чтобы достичь цели?
– Для начала надо определиться с целью. Наполеон говорил, никто не достигает большего, чем человек, который точно знает, куда идет. Например, быть богатым – очень размытый ориентир, все этого хотят. Высококлассный сантехник будет получать больше, чем посредственный юрист или экономист, потому что он профессионал. А почему он профессионал? Потому что это ему нравится. Формула проста: делай то, что тебе нравится и максимально оттачивай свое мастерство. У нас в городе есть молодой парень-сапожник, это человек, который следует философии ценного конечного продукта, хотя, не думаю, что он даже задумывался об этом. У него все так чистенько. Он качественно выполняет свою работу и предлагает тебе решения, а не задает вопросов, в которых ты не разбираешься. Я думаю, люди, как он, всегда будут успешны, чем бы они ни занимались. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я бы порекомендовал молодым людям развивать в себе эту философию, если берешься за что-то, делай это максимально качественно, оперативно и до конца. Этот подход применим везде.
– Как выглядит ваш рабочий день?
– Мой рабочий день достаточно просто выглядит… Работа с 8 утра до 5 вечера, потом тренировка. Я очень люблю готовить, поэтому часто ужин готовлю сам, в этом плане моей жене повезло. Вторая моя страсть – это книги, так что остальное свободное время обычно провожу за чтением.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей семье.
– Мы с супругой женаты восемь лет, девять с половиной знакомы. У меня двое детей – сын и дочка. Сын в этом году пошел в первый класс. У меня жена непубличный человек в том плане, что не особо любит афишировать нашу семейную жизнь. Я ее в этом поддерживаю. Жена работает, у нее интересная работа.
– Как лучше всего воспитывать детей, когда оба родителя работают?
– Я очень надеюсь, что мы детям уделяем достаточно времени. По крайней мере, все свободное время стараемся с ними проводить. Мой подход в отношении детей очень демократичный. Я не рассматриваю их как собственность. Не диктую, но, конечно, советую и использую свой статус. Моя задача как родителя – заложить в детях правильное восприятие мира, определенную философию и любовь к познанию. Родители меня научили всегда делать выбор самому. И детей я заставляю принимать решения самим. Если ты хочешь что-то, ты должен понять, что это твое решение, а если так, будь добр, неси ответственность за это решение. Мама всегда давала нам свободу выбора, и с ней всегда приходит ответственность за нее, самое страшное, наверное, это взрослый человек, который не умеет принимать решения и нести за них ответственность. Поэтому и своих детей я хочу приучить к принятию решений и ответственности за них. И если мы даем свободу принятия решений, свобода должна быть во всем: и в религии, и в том, кем они себя видят, а моя миссия как родителя поделиться своим опытом, рассказать о подводных камнях и дать совет детям, но не насиловать их своим авторитаризмом. Мои дети – не моя собственность, они такие же полноценные личности, как и я, просто я могу и должен с ними поделиться житейской мудростью.
К разговору об ответственности, есть теория о входящих и исходящих потоках в жизни каждого индивидуума. Суть в том, что каждый из нас постоянно пребывает в процессе получения и отдачи, не важно чего, денег, любви, внимания и т. д., но важно понимать, что эти исходящие и входящие потоки должны быть равны. Очень опасно, когда входящий поток позитива превышает твой исходящий поток позитива, например, многие, наверное, сталкивались с ситуацией, когда ты делаешь много добра человеку, а он потом начинает тебя люто ненавидеть? Этот человек слишком много добра от тебя взял, входящий поток был слишком большой, а исходящего не было, может быть, возможности не было или желания. И подсознательно человек понимает эту несправедливость, и это начинает бродить в нем. И вот тут мозги начинают обманывать душу, и вырабатывается негатив, он начинает оправдывать себя, мол ты богатый, ты и помогай, или он удачливее, он мне и так должен. А если бы у этого человека была возможность отблагодарить, создать позитивный исходящий поток, то его баланс бы восстановился, и он бы не отравлял свою душу. Поэтому очень важно иногда самим создавать ситуации, чтобы у других была возможность нам что-то отдать. Можно попросить друга о помощи при переезде, при решении какой-то задачи, даже если эта помощь вам не особо нужна, но если вы чувствуете, что это нужно сделать – сделайте. И такие же каналы для обратного потока нужно создавать при воспитании детей. Когда я вижу, что мои дети получили большой входящий поток в виде путешествий, игрушек и при этом начинают капризничать на пустом месте, я предлагаю им помыть посуду, вместе убраться дома, как-то мне помочь. Конечно, толку от этого может быть и немного, но сам факт того, что ребенок чувствует себя полезным, что он отдает, восстанавливает баланс в его душе. Я создаю ему исходящий поток, потому что он получает от меня много. Нельзя людям только давать, им нужно давать возможность и отдавать что-то, равно как и нельзя только брать.

Автор: Дина Токбаева
Фотографии: Диля Муминова