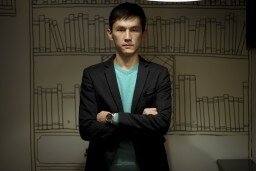Соль и войлок

Материал подготовлен в рамках Летней Центральноазиатской школы журналистики Академии ОБСЕ и Deutsche Welle.
Едва мы переступаем порог, в легкие врывается сырой соленый воздух. Холод, тьма, выскобленные стены. Труба на потолке, покрытая ржавым соляным налетом таких размеров, что по ней может проползти василиск. В бездонной тишине эхом отдаются шаги. В вырубленных гротах – кровати, бутылка из-под чая на полу. Здесь кто-то ночует? На улице заброшенный мост и вагонетка, которая остановилась над самой пропастью. Село Чон-Туз привлекает приезжих соляной пещерой, в которой, как утверждают местные жители, можно излечиться от астмы.
Но мы здесь не за этим. На окраине села живет бабушка Бейшеке Абдышева. Она единственная на два айыла занимается традиционными ремеслами. Спрашиваем у прохожего, как найти мастерицу. Он тут же обзванивает знакомых и объясняет нам, как до нее добраться. Любопытные мальчик и девочка на ослике прислушиваются к разговору: «Бабушка Бейшеке сейчас в Бишкеке!». Не теряя энтузиазма, мы продолжаем искать ее дом. И вот она сидит перед нами в просторной комнате и улыбается во весь рот.
– Все шью сама, никак не могу остановиться. У меня 8 детей, вот для них я все это и делаю.
Комната полна яркими, разноцветными коврами. Они везде – на стенах, на полу, на сундуках.
– Это традиционные узоры. Некоторые я сама придумываю, другие где-то видела. Раньше я делала войлок для юрт. Его часто заказывают, потому что он изнашивается и каждые 3-4 года надо его менять. Сейчас сельчане в основном берут. Например, собрался кто-то дочку замуж выдавать и просят меня приданое сделать. Сын мой работает в швейном цеху в Бишкеке, он привозит мне оттуда ненужные отрезки материала. Я тоже живу в Бишкеке, сюда приезжаю только на лето отдыхать.
Бабушка Бейшеке никогда не гналась за прибылью. Подушку она готова продать за 50 сомов, а ковер на всю стену – «задорого» – целую тысячу сомов.
– А ваши дети, внуки учатся ремеслу?
– Нет, им это не интересно, не буду же я их заставлять…
Выпив чаю и поблагодарив хозяев, собираемся в дорогу. Бейшеке провожает нас до решетчатых ворот.
– Вам спасибо большое! Никто не хочет этому учиться, хотя бы журналистам интересно.

… Центр Бишкека. Государственный исторический музей. Лариса Соболина, научный сотрудник музея, показывает ковры, похожие на те, которые шьет бабушка Бейшеке, с одной только разницей: местным коврам более 100 лет. По ее словам, именно сельские мастера не позволяют угаснуть народным традициям и обычаям кыргызов.
– Самые крупные объекты ремесленного производства – это в первую очередь юрта и весь комплекс вещей, сопровождающих это производство: постилочные ковры ала-кийизы, шырдаки, настенные ковры, туш-кийизы. Благодаря тому, что эти продукты ремесленного производства востребованы по сей день, ремесла не угасают. Те же юрты используются не только как гостевые дома для туристов и чабанами на жайлоо, но и являются элементом сохранения традиций, связанных с обрядом похорон.
Оставайся, красавица, шить научу
Полдень. В селе Кочкор кипит работа. Этот районный центр известен прежде всего лучшей в Кыргызстане картошкой. Еще здесь фурами отправляют баранину в города и принимают туристов, путешествующих по Шелковому пути. На параллельной исторической трассе улице живет Фатима Айыпова, местная бизнесвумен, которая вместе с мамой управляет кооперативом женщин. Они делают текстильные изделия с элементами традиционной кыргызской культуры. Синие деревянные ворота с национальным узором не дадут приезжему пройти мимо этого дома. Во дворе бегают дети, на скамейке сидят взрослые, женщины, мужчины что-то делают по хозяйству. Чувство, что этот двор – один большой, постоянно работающий механизм, который никогда не останавливается. Фатима выходит к нам с озабоченным видом, словно ее оторвали от важной работы.
– Я вам так скажу: одна женщина, если она непрофессионал, делает шырдак один год (ред.: традиционный кыргызский войлочный ковер). Если же она работает профессионально, то – шесть месяцев. Ковер два на три метра мы продаем примерно за 10-12 тысяч. Разделите это на время работы! Получается всего 2-3 тысячи в месяц.
– А какая тогда экономическая выгода от этого вашим работницам?
– Лучше ведь так, чем совсем без денег. Часто это вторая зарплата для людей. У нас есть и учителя, и врачи, и медсестры. Мы никого не заставляем, все занимаются этим по любви и в свободное время. Получают удовольствие и при этом зарабатывают.

Мама Фатимы, Нурбюбю, возглавляла кооператив женщин еще в 80-е годы прошлого столетия. Союз распался, но Нурбюбю не бросила любимое дело. Она выходит к нам в национальном головном уборе, элечеке, и ведет в небольшой частный музей, организованный семьей Фатимы. Здесь представлены старинные экземпляры кыргызского ремесленничества.
– Я вам покажу один секрет, – Нурбюбю показывает кожаный сундук в углу комнаты, – у нас есть один старый-старый ковер, туш-кийиз, десять лет назад он стоил как 3-комнатная квартира в Бишкеке. Дочка хотела продать, а я сказала, что квартира еще найдется, а это мы потеряем навсегда.
Пока бабушка показывает нам музей, Фатима успевает сбегать на кухню, там у нее готовится обед, несколько раз переговорить по телефону с заказчиками, покормить грудью младшего ребенка. Наконец, она показывает магазинчик, в котором можно купить все, что так или иначе связано с традиционной ручной работой.
– А вы покупаете патент официально?
– Да, я патент беру для себя. Это глобальная проблема. У нас госорганы хоть и помогают многодетным женщинам, но если узнают, что она хоть где-то работает, то пособие на детей сразу прекращают выплачивать. Как мы можем указать такую женщину? Она и здесь получает мизер, а еще и пособие платить перестанут. Есть ведь и пенсионеры, у которых пенсия 2-3 тысячи, им очень дорого покупать патент и платить налоги.

…На скамеечке у входа – три женщины. Это мастерицы, которые пришли к Фатиме и Нурбюбю за заданием. Две пенсионерки и учительница английского языка в школе.
– I am an English teacher, а здесь работаю дополнительно на каникулах. Или когда время есть, беру кийизы и делаю сумки. Это и хобби и способ заработать. В школе зарплата небольшая, 8-10 тысяч.
Во двор заходит семейная пара: учительница кыргызского языка и учитель физики.
– А мужчины что, тоже здесь работают?
– Да, работают. По кыргызским традициям этим занимаются женщины, но мужчины помогают женам делать шырдаки, это тяжелый труд. Некоторые мужчины делают ковры лучше, чем жены.

Дом Фатимы – один из туристических центров села Кочкор. Здесь они с мамой показывают приезжим ковровое шоу, в котором показывают технологию изготовления войлока, начиная от битья шерсти, заканчивая готовым ковриком.
– Кто больше покупает вашу продукцию? Туристы?
– Нет, кыргызы больше покупают для приданого. Бывает, что туристы просто приходят, посмотрят и ничего не покупают. Но мы рады, что хотя бы зашли.
– Когда выделываете шерсть, вы берете определенные породы баранов? Или это не имеет значения?
– Имеет. Вот, к примеру, калпак из чистого мериноса. Один килограмм шерсти стоит 350 сомов, то есть такой калпак будет стоить 800 сомов. За такую цену калпаки покупают только ценители. Поэтому часто мы используем китайский войлок, он с примесью синтетики. Такой калпак продаем всего за 70 сомов.
Женщины приглашают нас в беседку, где показывают свое шоу. Всеми силами они пытаются вовлечь гостей в изготовление войлока, чтобы мы побили шерсть палками, чтобы прочувствовали, так сказать. Под конец Фатима объясняет значение узоров на шырдаке.
– Рога барана, например – это богатство и благополучие. Семена – чтобы детей много было.
Нурбюбю-апа говорит, что таких активных мастериц в кооперативе пятьдесят, но она готова учить всех бесплатно.
– Вот пусть красавица останется, живет у меня в доме бесплатно, кушает то же, что кушаю я. Мне самой от этого легче, что я научила кого-то, что сохранилась традиция. Никто не знает, но от шырдака исходит хорошая энергия. Если лежать на шерсти, то никакой остеохондроз не случится, а выделывать шерсть – это и физкультура. Одна женщина катала шырдак и вылечила ожог на руке.
… В большой семейной юрте нас угощают каттамой (ред.: обжаренная в масле лепешка с джусаем). За чаем Фатима рассказывает, что мечтает уехать в Воронеж и построить там кыргызский национальный ресторан и что хочет забрать всех своих женщин с собой. Что же тогда останется от традиционного искусства здесь, в Кочкоре?

Из села в город
Сегодня в сфере ремесленничества существует целый ряд нерешенных проблем. Айбек Патиев из Бишкекского делового клуба (БДК) выделяет три основные. Первая – это взаимодействие ремесленников с государством. Сейчас БДК вместе с Министерством экономики работает над законопроектом, который должен решить проблему классификации ремесленных товаров, налогообложения, снижения таможенных пошлин, система патентирования и сертификации качества.
Акылай Кожомбердиева из Министерства экономики КР призналась, что пока законопроекта как такового нет.
– Сейчас на рассмотрение передан только классификатор ремесленной деятельности, но проблема заключается в том, что не все ремесленники ассоциируют себя с предпринимателями, потому формально они не относятся к Министерству экономики.
Вторая проблема тесно связана с идеей БДК продвинуть кыргызские ремесленные товары за рубежом. Препятствие на этом «войлочном пути» – низкое качество сырья.
– Дело в том, что натуральное, качественное сырье стоит очень дорого, – объясняет Айбек Патиев. – Шерсть барана породы «меринос» доступна не каждому ремесленнику, поэтому рынок забит китайским низкокачественным сырьем. Такой войлок стоит гораздо меньше, но изделия из него получаются плохого качества. Это влияет на имидж кыргызского ремесленничества на международной арене. Не способствует продажам и использование некачественных китайских красителей.
Что же по поводу модного словечка «дизайн»? Айбек Патиев говорит, что аутентичные древние узоры покупают в основном в качестве сувениров. Для открытия рынка экспорта дизайн узоров нужно модернизировать.
Графический дизайнер Эмиль Тилеков не согласен с БДК.
– Изменения в традиционном узоре, который формировался веками, – это деградация, отрыв от корней. Изменения, конечно, неизбежны, однако хочется, чтобы не забывалось старое.
Лариса Соболина из Исторического музея и вовсе уверена, что погоня за модой – это ширпотреб, в котором растворяется традиционный кыргызский узор.
Может быть, кто-то и играет в тетрис, но уже только из ностальгии, в то время как мир меняется со скоростью выхода новых моделей смартфонов. Кто знает, может, через 10 лет о традиционном шырдаке бабушки Бейшеке никто не вспомнит. Национальные обычаи затеряются в лабиринтах мрачной соляной пещеры, а вместо теплого традиционного кыргызского чая с каттамой, мы будем пить ароматизированный чай из бутылок.
Автор: Наталия Козина, Хушбахт Зайдуллоев
Фотографии: Наталия Козина, Хушбахт Зайдуллоев